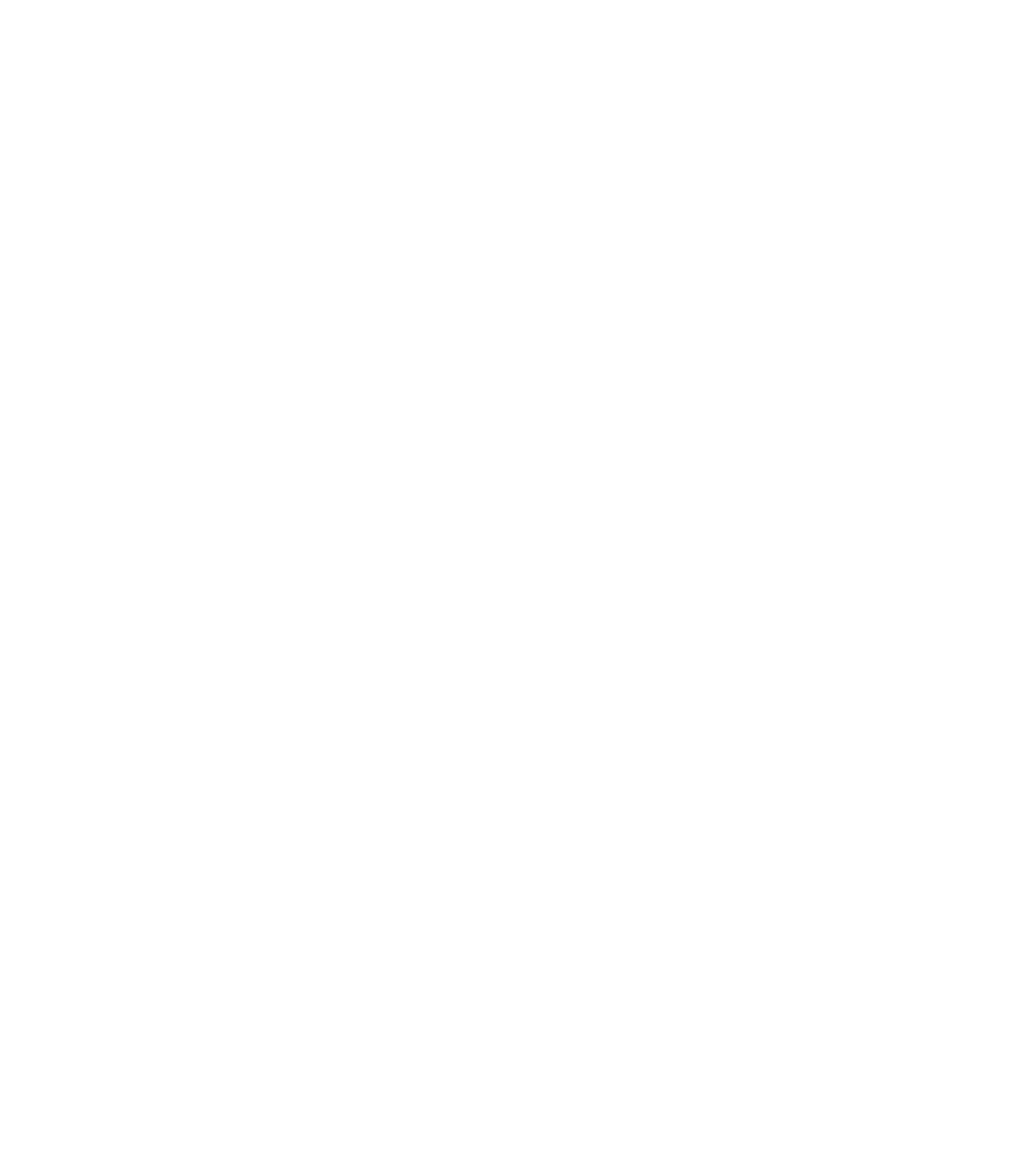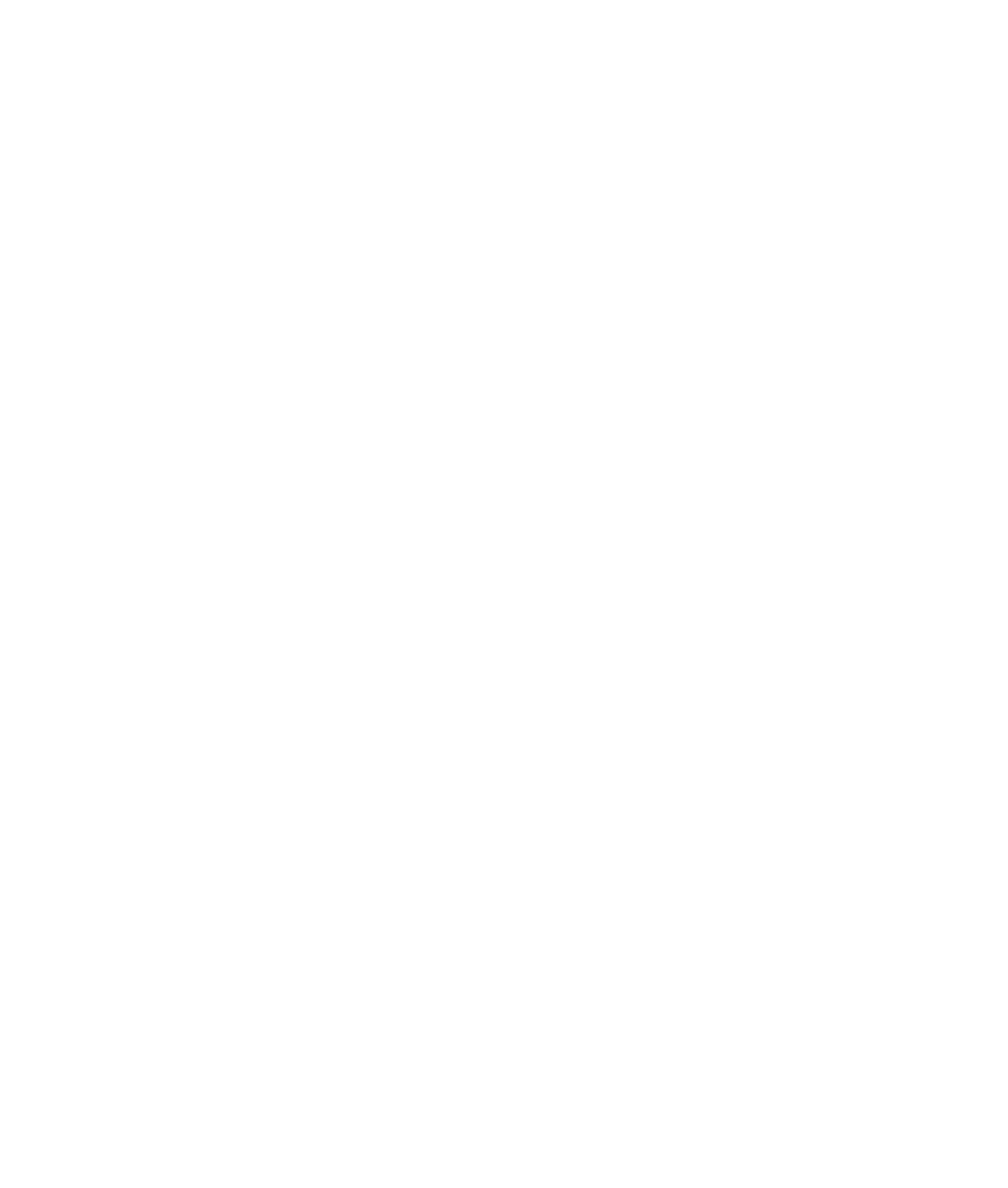Заметки на полях IMAF’2022
АВТОПРОМ РОССИИ
В 2022 ГОДУ
Автопром
АВТОПРОМ РОССИИ
В 2022 ГОДУ
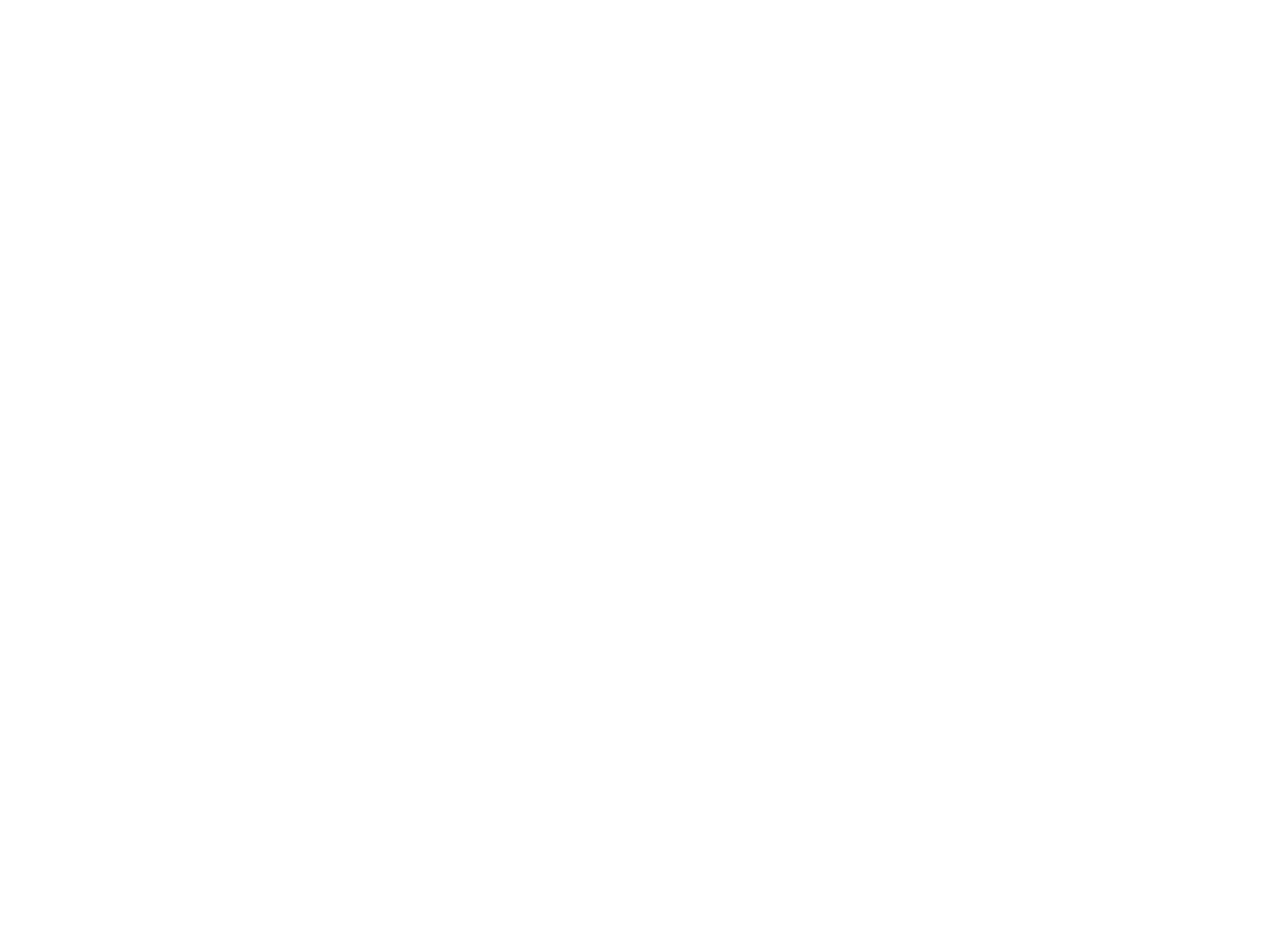
Алексей САМОЙЛОВ
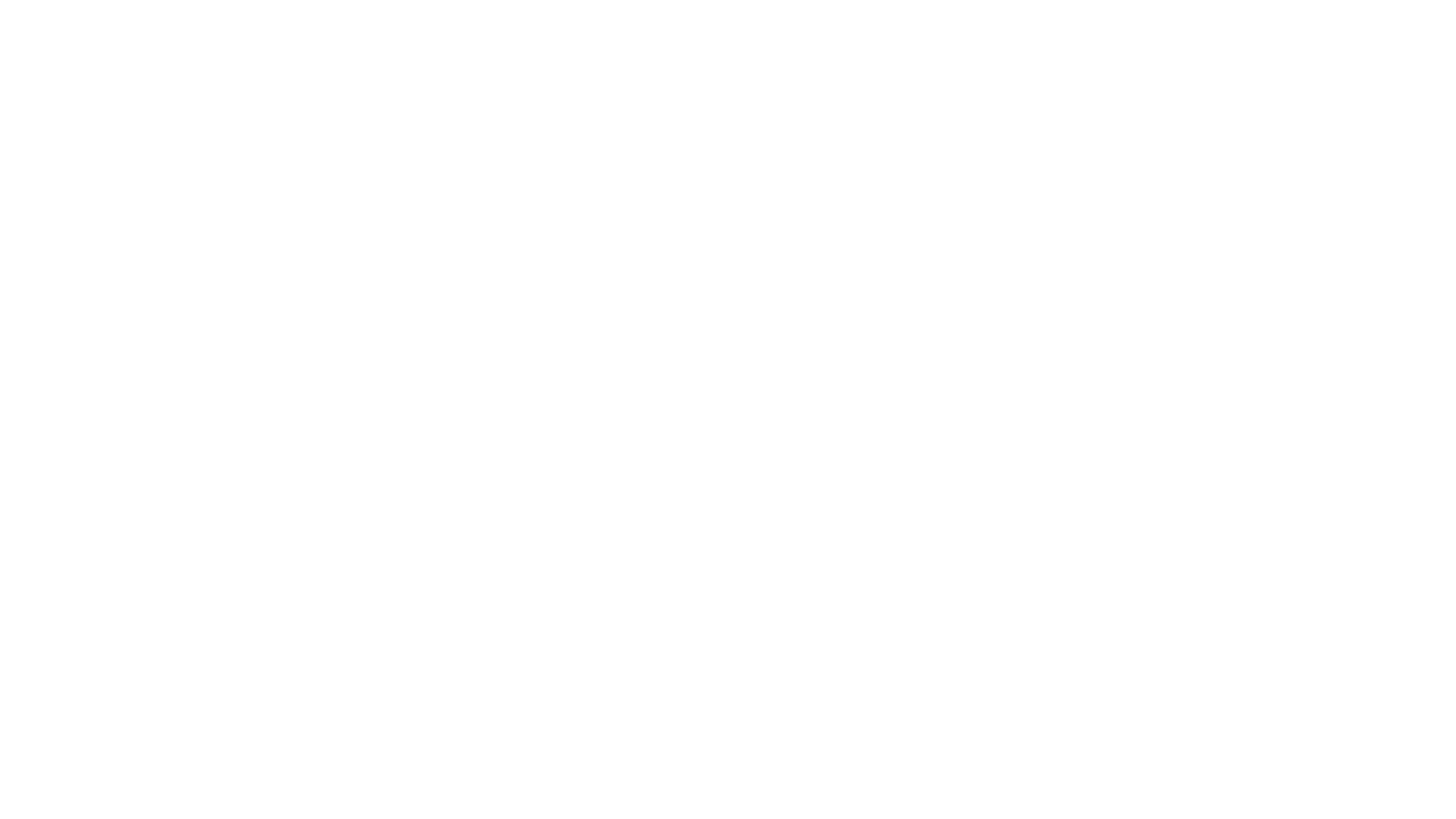
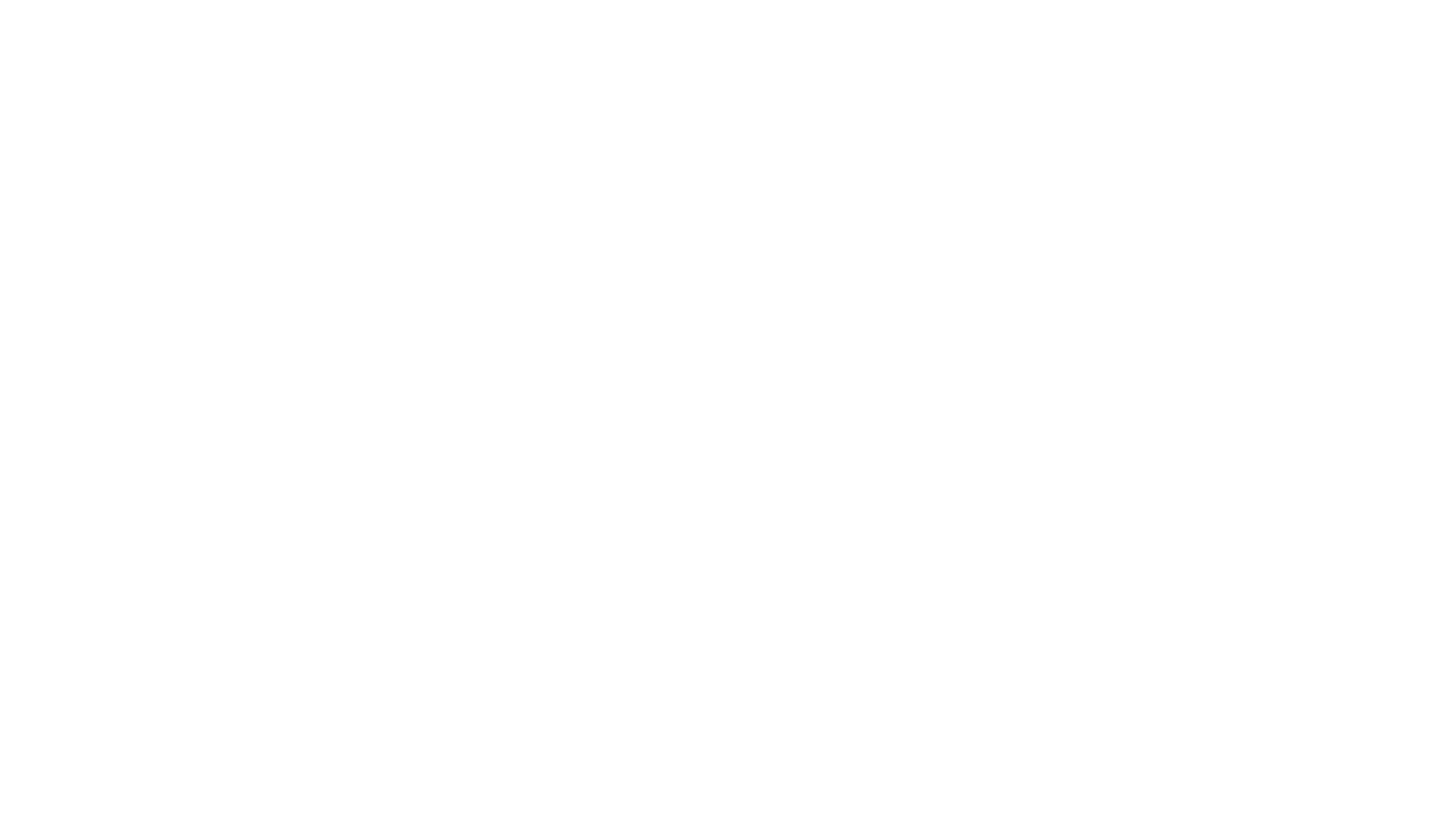
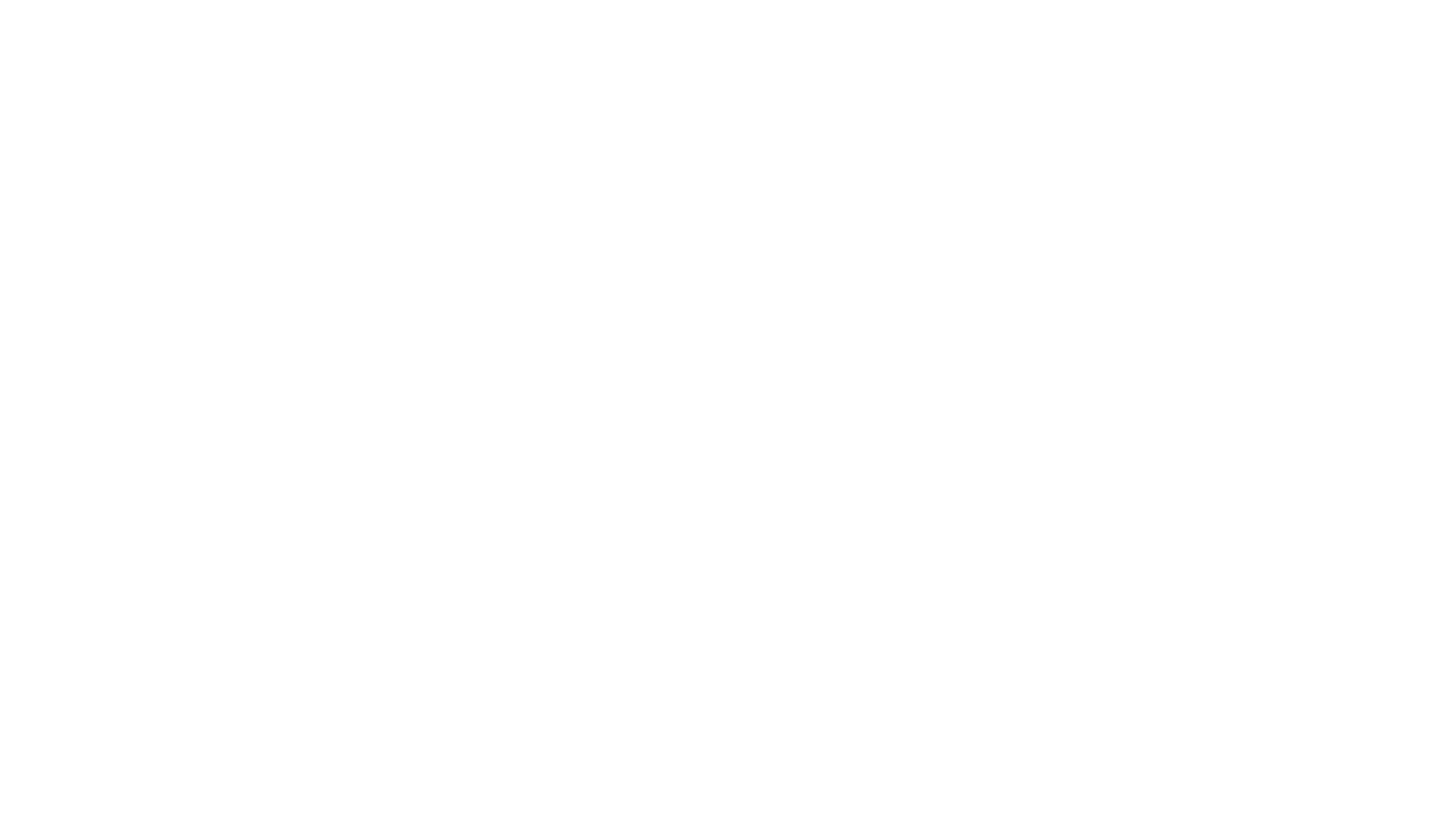
Тем не менее прошлый год был лучше, чем предыдущие три!
Впрочем, можно особо отметить успехи Китая в производстве NEVs-техники (New Energy Vehicles) – с новыми типами энергоустановок: гибриды различного типа и полный электропривод. Здесь годовой объем продаж (с легковыми автомобилями) превысил 3,5 млн ед., а рыночная доля увеличилась до 13,4%, что говорит о популярности и перспективах такой техники.
Как думается, на этом фоне сокращение производства и продаж автомобилей с ДВС связано с ужесточением Национальных правил по выбросам для средне- и крупнотоннажных дизельных грузовиков (MHCV). Например, потому что техника, соответствующая новому стандарту National VI, по стоимости приобретения и владения оказывается дороже, чем соответствующая предыдущему National V. Замедление продаж в сегменте LCV связано с ожиданиями т.н. политики «Голубой карты для легких грузовиков», которая призвана стимулировать приобретение таковых, но с новыми типами силовых установок. И в ожидании обещанных со стороны государства мер поддержки часть покупателей решила отложить их приобретение. Кроме того, надо учитывать, что эффект от ряда мероприятий, реализованных государством для поддержки производителей и покупателей коммерческой техники еще до пандемии и во время её, начал ослабевать, посему в перспективе общая ситуация может быть скорректирована в сторону дальнейшего снижения продаж, а значит, и производства техники.
Собственно, это к тому, что в целом ситуация в автопроме Поднебесной неоднозначная и явно связана с внутренними факторами, объективно способствующими сокращению производства.
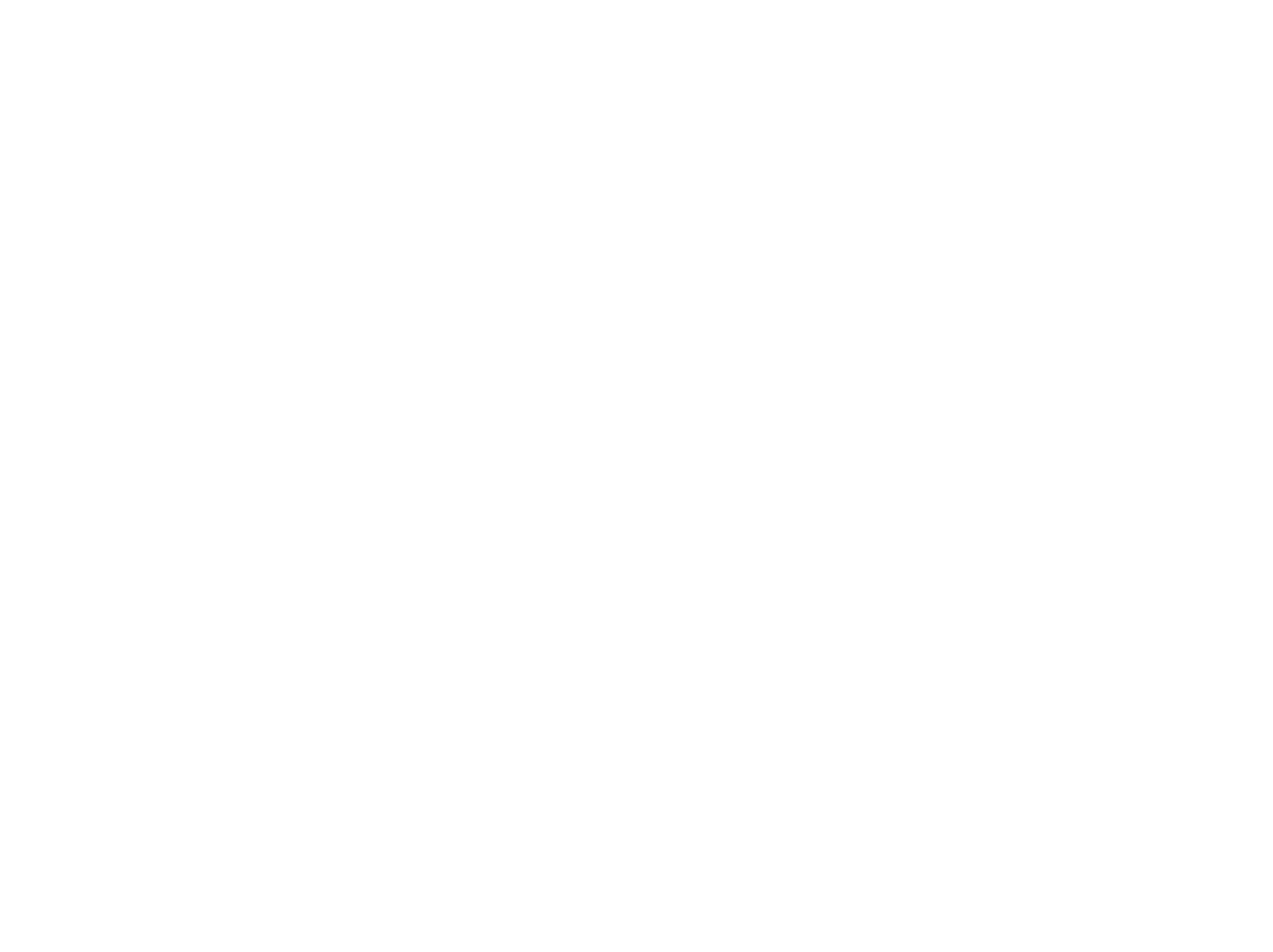
И это отмечено, например, в Германии. Так, экономический еженедельник «Wirtschaftswoche» на своем портале указал, что в сумме по итогам первых шести месяцев с.г. годовой рост ВВП в КНР составил 2,5%. Хотя официально провозглашенная в Пекине цель на весь нынешний год составляет 5,5%. А в статье, опубликованной газетой Handelsblatt еще 10 февраля с.г., известный экономист, директор берлинского института DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) настоятельно рекомендовал немецкому бизнесу снизить связанные с Китаем риски, поскольку ему грозит финансовый кризис. И это было напечатано, когда китайская экономика еще росла.
Более того, Том Орлик (Tom Orlik), главный экономист Bloomberg Economics, в своей книге «Китай: пузырь, который никак не лопнет?» указывает, что кризис в Поднебесной начался еще в 2018 году. Цитата: «Попытки внедрить инновации и заниматься предпринимательской деятельностью крайне неэффективны в рамках системы управления, где доминирует государство. <...> Фирмы, добившиеся успеха, часто пользуются огромными государственными субсидиями, защитой от конкуренции со стороны иностранных компаний и тем, что друзья называют передачей технологий, а конкуренты – их кражей. Вливая инвестиции в целевые отрасли, государственные плановики создают не крепкий фундамент, необходимый для успеха, а избыток новых предприятий и производственных мощностей...» (конец цитаты).
Мы планируем отдельную статью, посвященную теме NEVs-техники, а пока – три момента, подтверждающие мнение г-на Орлика:
■ Да, китайский автопром активно развивает направление NEVs. Но (цитата из местных СМИ): «В области NEVs продолжается беспорядочная конкуренция, и это ведет к проблеме избыточных мощностей» (Тан Сюгуан, председатель правления Weichai Power Co., Ltd.).
■ Производственные мощности (причем во время пандемии и падения продаж), похоже, действительно растут быстрее, чем следует. Так, на конец 2021-го годовая производственная мощность по NEVs только для легковых автомобилей составила 5,69 млн ед., хотя загрузка предприятий составила максимум 58% (данные CAAM по лидерам рынка).
■ Автозаводы, которые сейчас находятся в стадии строительства, будут иметь общую мощность только по легковым автомобилям еще в 10,46 млн ед., причем большинство из них, как предполагается, будут предназначены для NEVs-техники. Как правило, такие предприятия вводятся в эксплуатацию примерно через два года после начала строительства. И как только все они заработают, Китай достигнет мощности в 15 миллионов NEVs-автомобилей...
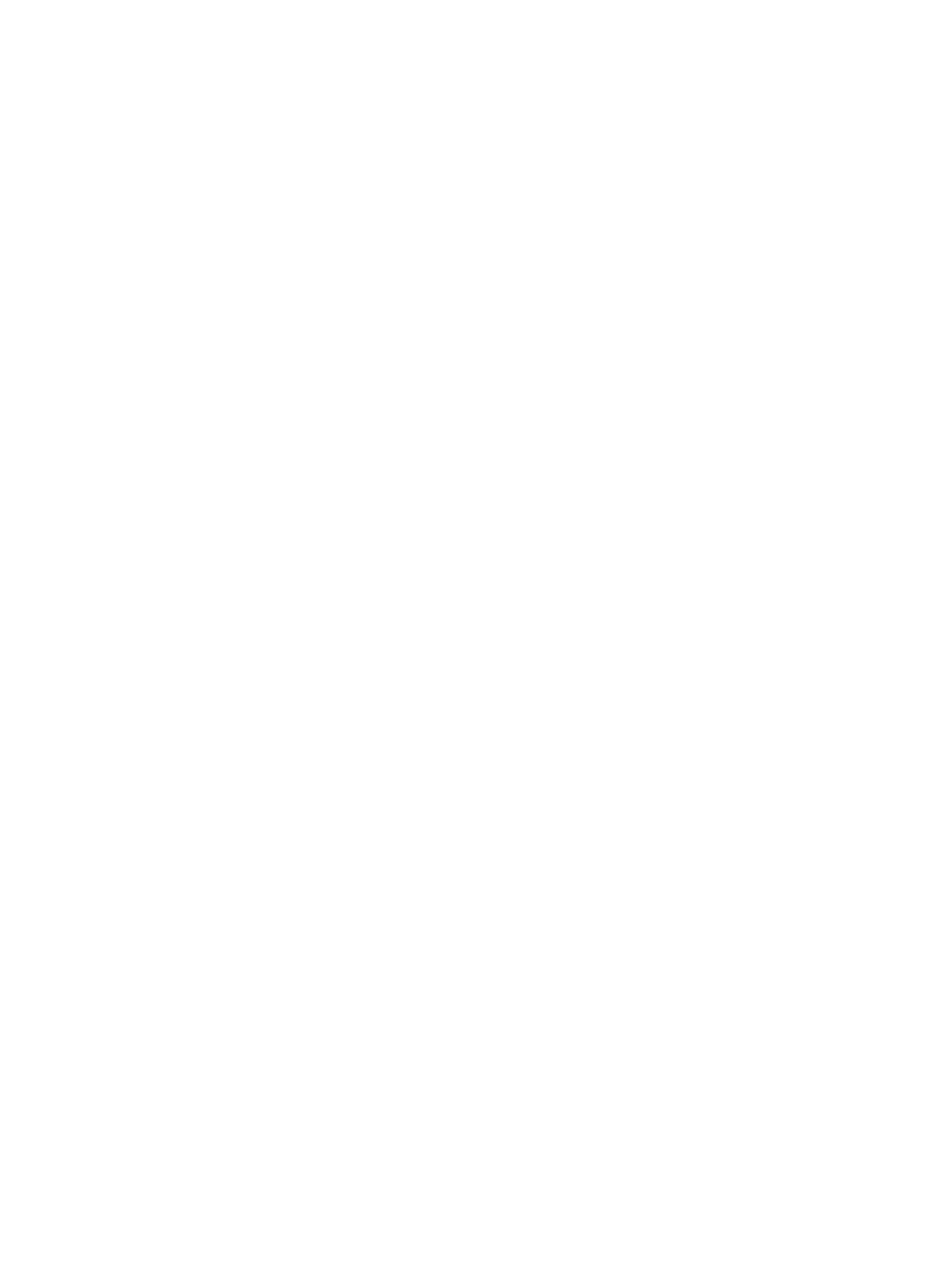
Примерно так в Поднебесной может выглядеть площадка готовой продукции (цифра загрузки производства указана).
Как вы думаете, в такой ситуации стоит ли вместо прямых продаж на неком экспортном рынке заниматься организацией там производства с возможностью его локализации?
1. С учетом избытка собственных производственных мощностей, насколько автопроизводители из КНР заинтересованы в создании – на первый случай – сборочных предприятий в России и локализации, например, по компонентам?
2. Китайский National VI отличается от привычного европейского Euro-6, но электронных компонентов в подобной технике не меньше, а системы двигателя (включая систему нейтрализации ОГ) по большому счету где-то даже сложней. Стало быть, кроме продаж нужно еще расширение, а где-то и создание дилерской сети. На это нужны инвестиции, а где их взять?
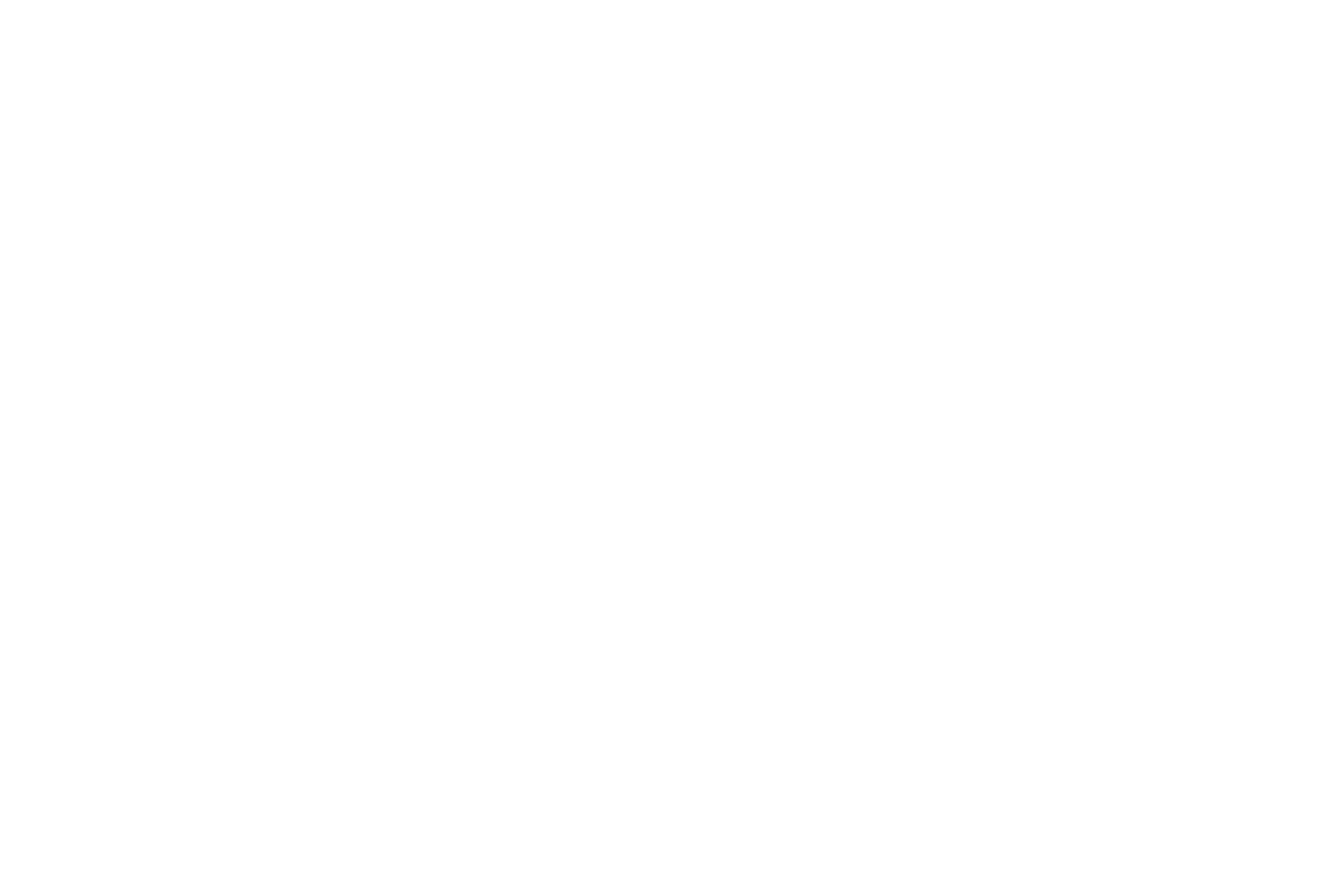
Сегодня, в условиях отсутствия поставок автокомпонентов, предприятия автопрома вынуждены выпускать технику с двигателями Euro-2 (хотя в РФ действует стандарт Euro-5), без ABS, подушек безопасности и прочего.
Например, ABS. В «чистом» виде антиблокировочная система, первые упоминания которой относятся к 20-м годам прошлого века, давным-давно устарела и на самой современной технике является лишь элементом / функцией современных активных систем торможения – AEBS (Advanced Emergency Braking System). Они в числе прочего способны оценить не только действия (верней, бездействие) водителя при критическом сокращении дистанции до объекта в полосе движения, но и даже сам характер объекта. Например, ABA-5 (Active Brake Assist пятого поколения) от Daimler умеет распознавать пешеходов, и в этом случае меняется алгоритм работы. Еще пример: EMA (Evasive Maneuver Assist) – совместная разработка ZF и WABCO. Она в случаях, когда для предотвращения наезда на препятствие тормозного пути недостаточно, может взять управление автопоездом на себя и... объехать его (безопасно!).
Иными словами, ABS – это лишь одна из многих функций AEBS, и боюсь, что импортозамещение именно её в «чистом виде» лишено смысла. Кстати, а все ли выпускники автошкол и даже водители со стажем знают, как именно надо тормозить, чтобы сработала ABS? Хотя «на том берегу реки» эту проблему решили очень давно с помощью Brake Assist – предшественницы Active Brake Assist.

Кстати, а стоит ли овчинка выделки? Это я о Euro-5. Просто, пока на «замещение» будут тратиться средства (в том числе бюджетные), «на том берегу реки» может появиться уже Euro-7. Или настоящий Zero Emission c запасом хода не менее 1000 км после 10-минутной зарядки накопителей. Вспомним, например, «жидкое топливо» для электромобилей от компании «Influit Energy» (США) или картриджные накопители от стартапа «Gogoro» (Тайвань). Во втором случае понятно, что речь идет об электроскутерах, но это пока.
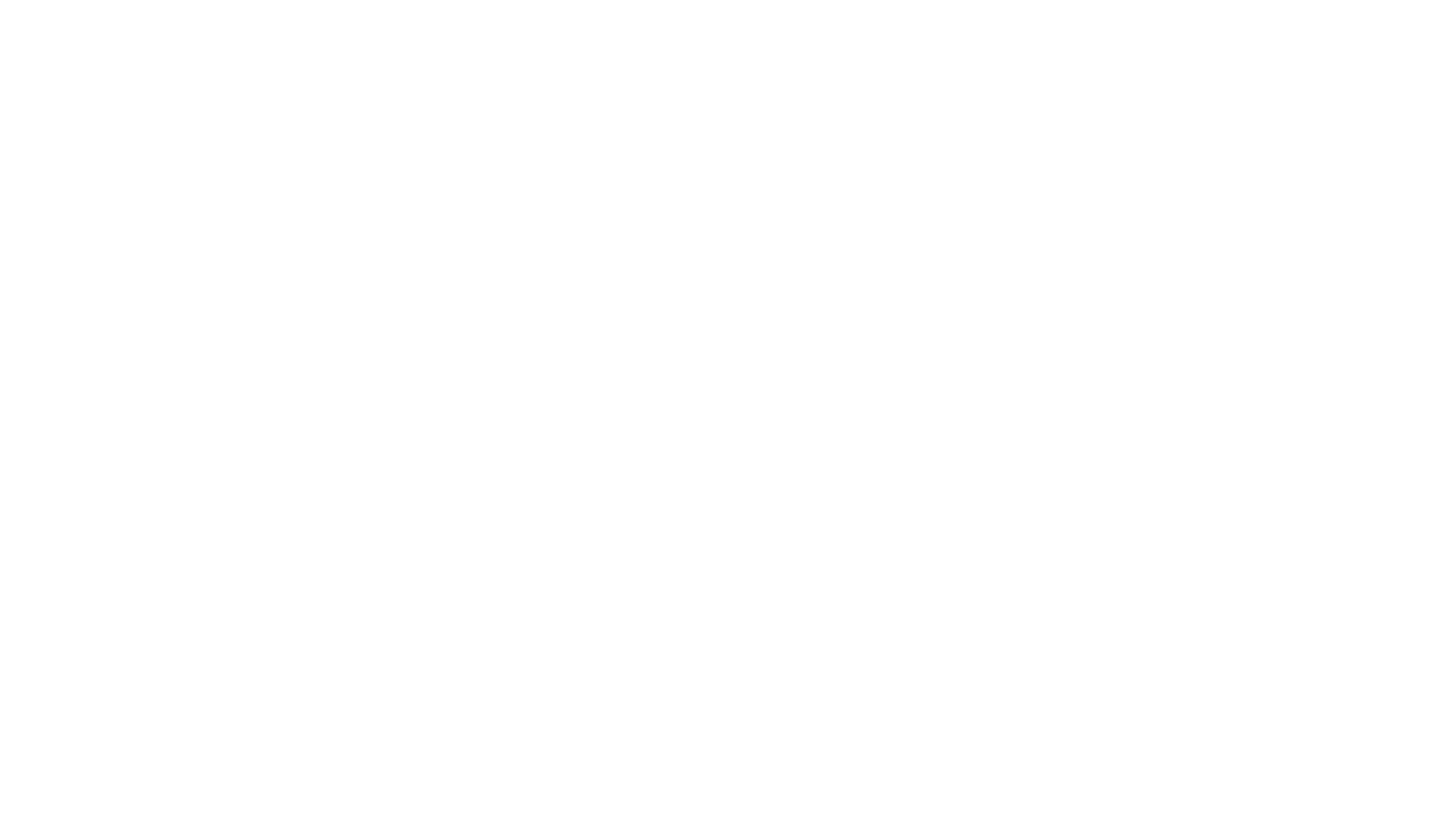
Иными словами, когда мы думаем и говорим об имортозамещении и технологическом суверенитете, надо четко понимать, что автопром – это как ABS в AEBS: лишь одна из многих функций достаточно сложной системы. И с учетом опыта того же Китая, по оценочному суждению автора, начинать надо с подготовки кадров (даже за рубежом), развития металлургии, станкостроения и много чего еще, а сегодня включая еще и микроэлектронику, программное обеспечение, в том числе облачные технологии.
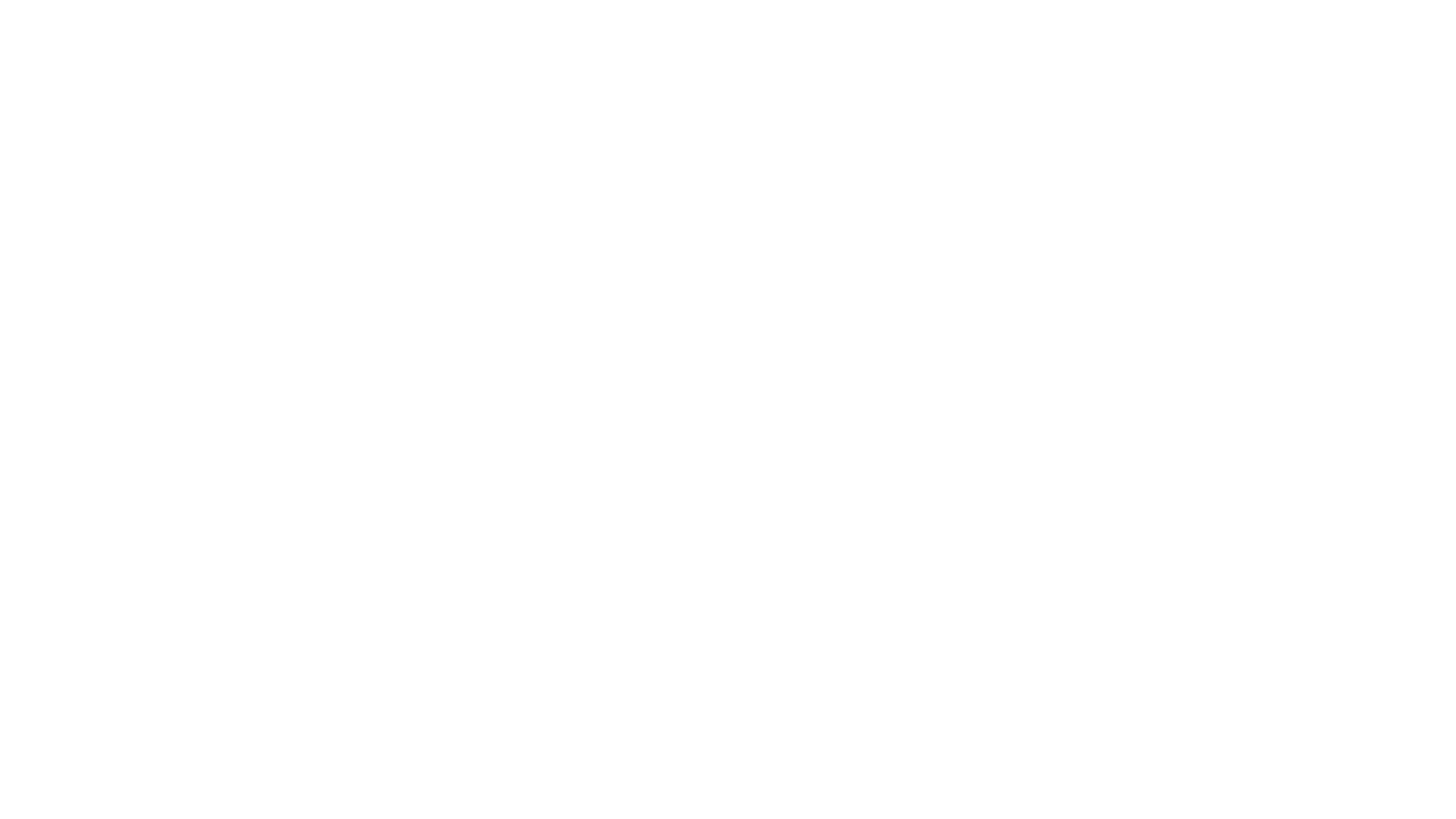

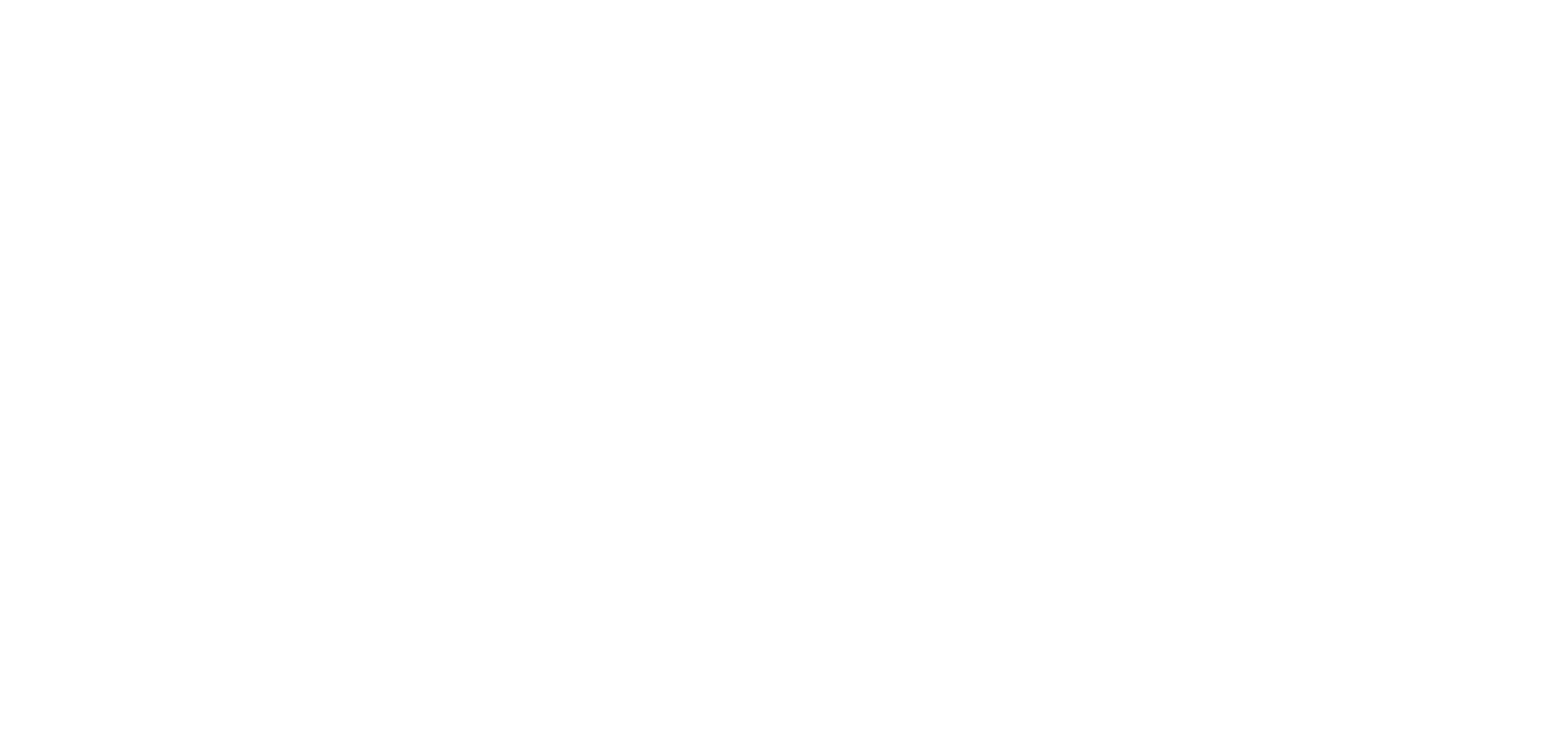
■ «Стратегия направлена на решение ключевых стратегических задач по созданию и производству конкурентоспособной продукции, удовлетворению спроса на продукцию отрасли со стороны потребителей Российской Федерации, создание современных сервисов мобильности, цифровых автомобильных сервисов и обновление парка автомобилей за счет развития научно-технологического и кадрового потенциала автопроизводителей и производителей автокомпонентов, реализации проектов в области локализации и развития производства компонентов и материалов, реализации мер, направленных на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), проводимых в целях инновационного развития отрасли, закрепления за российскими юридическими лицами прав на результаты интеллектуальной деятельности по созданию критически важных технологий в автомобильной промышленности и обеспечение ее технологического суверенитета.
Реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта – электрических и гибридных автомобилей, включая автомобили на водородных топливных элементах, автономных автомобилей» (пауза в цитировании).
Здесь без комментариев – они будут ниже.
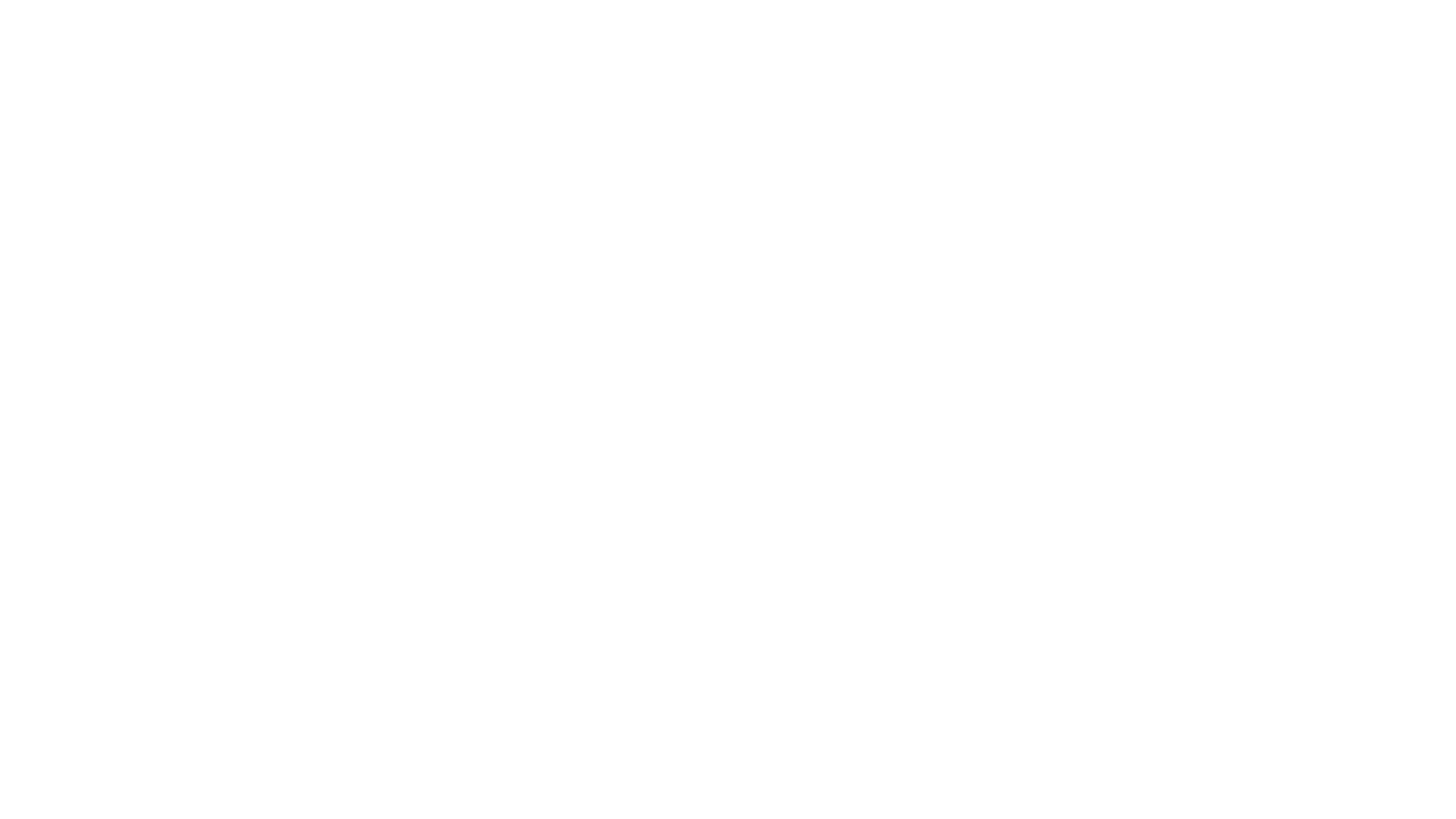
Видимо, в данном случае следует припомнить, что 2021 год был связан с «ковидными» ограничениями различного рода, от проблем в логистических цепочках до полной остановки предприятий, и не только в России. Без сомнения, COVID’19 повлиял и на «потребности» рынка, а значит – спрос и продажи. Насколько правильно использовать эти данные в контексте развития автопрома до 2035 года?
Кроме того: «Производственные мощности, принадлежащие российским предприятиям, составляют около 70% в сегменте LCV, 75% – в сегменте MHCV и 100% – в сегменте автобусов. Продолжение производства на мощностях зарубежных компаний, остановивших производство своих моделей, потребует их существенной реструктуризации по различным направлениям».
Здесь хотелось бы уточнить про источники финансирования, ведь реструктуризация при смене модельного ряда в числе прочего может подразумевать замену технологического оборудования и прочих мелочей вплоть до программного обеспечения. Это все у нас есть?
■ О локализации производства. Здесь поставлена задача достигнуть цифры 70-85%, хотя в 2019-2020 годах ее уровень составлял 50-55%. Меня откровенно смущает то, что в проекте речь идет о «доле стоимости компонентов, субкомпонентов и сырья, произведенных в Российской Федерации, в общей стоимости спецификации автомобиля в денежном выражении» (подчеркнуто автором).
Иными словами, если произведенный в РФ коврик в кабину ГАЗели вдруг будет стоить 1,0 млн руб., то уровень локализации ее производства в денежном выражении увеличится? Ошибаюсь?

С одной стороны, да (цитата): «Технологический суверенитет автомобильной промышленности Российской Федерации обеспечивает производство и развитие необходимых технологий и материалов для производства автомобилей и компонентов (прежде всего критических), интеллектуальные права на которые принадлежат российским производителям – юридическим лицам, в структуре владения которых контрольные пакеты акций принадлежат российским владельцам. При этом приоритетом является поддержка выполнения на территории Российской Федерации полного цикла разработки компонентов российскими компаниями. Развитие российской инженерной школы является неотъемлемым условием и ключевым инструментом достижения технологического суверенитета автомобильной промышленности».
Но с другой стороны... Еще цитата: «Необходимый объем инвестиций на период 2023-2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей. Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер».
Да, 2,7 триллиона рублей – это много больше 387 млрд рублей, таков был общий объем государственной поддержки отрасли в виде стимулирующих мер в период 2016-2021 гг. Проблема в том, что по курсу от 01.09.2022 это 44,840 млрд евро за весь период, или в среднем 3,737 млрд евро в год. Хотя, например, Daimler AG, по данным S&P Global Market Intelligence, только за период 2021-2025 гг. потратит на R&D (Research and Development – англ. аналог термина НИОКР) порядка 70 млрд евро, или 14 млрд в год (в 3,75 раза больше). Причем речь идет лишь о разработках по агрегатам электропривода, накопителям, системам преобразования энергии, цифровым технологиям и подготовке их производства. И основной получатель инвестиций – подразделение Mercedes-Benz (легковые автомобили).
■ Еще одна цитата: «Приоритетными направлениями экспорта являются страны Евразийского Экономического Союза, страны Африки, Азии и Латинской Америки и другие страны с развивающейся экономикой».
Разумеется, речь идет обо всей производственной программе российского автопрома. Глобальная экономика не наша тема, но было бы интересно узнать у авторов документа их оценку присутствия, общего потенциала и перспектив на тех же самых рынках автопроизводителей из Китая.
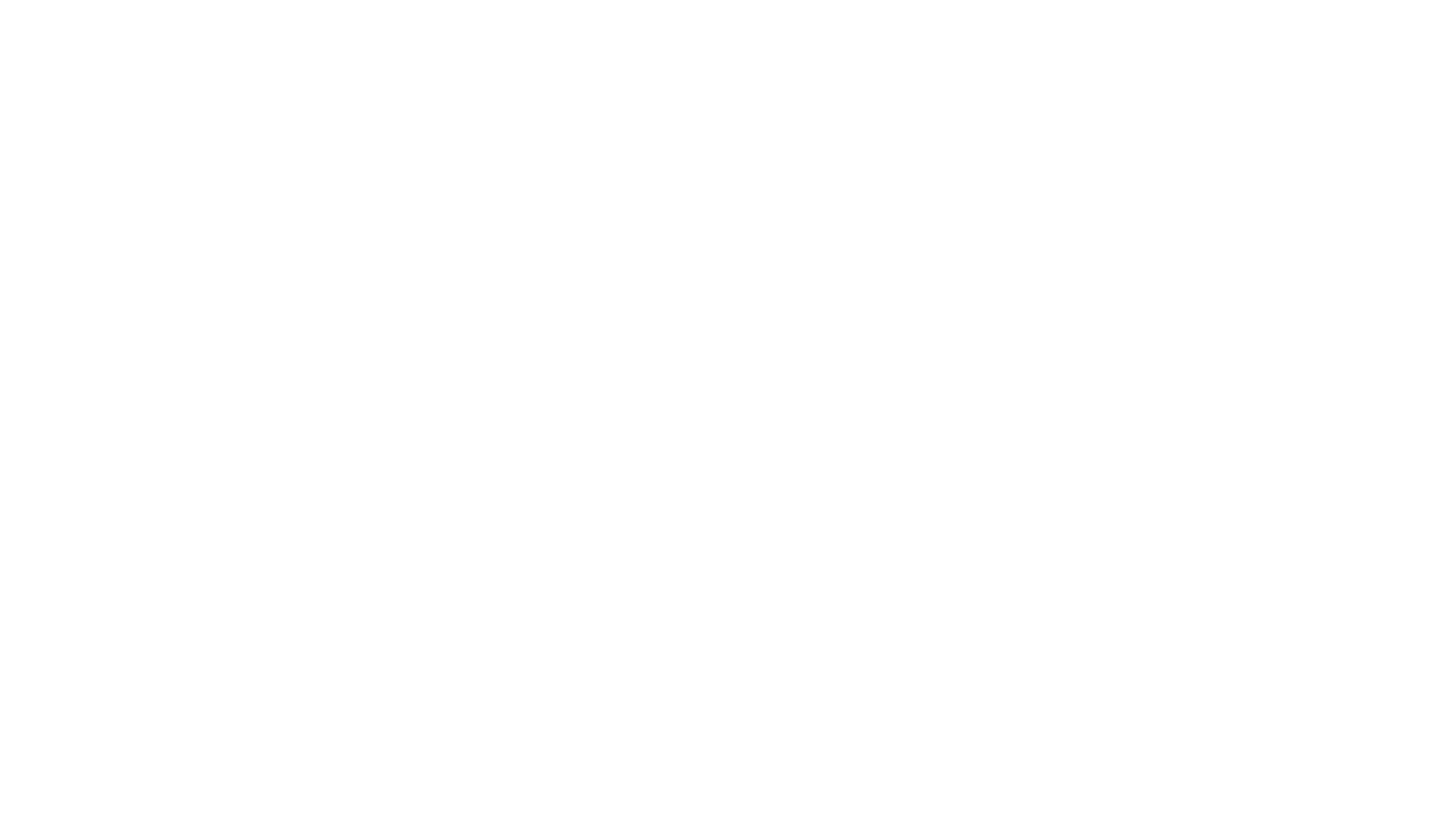
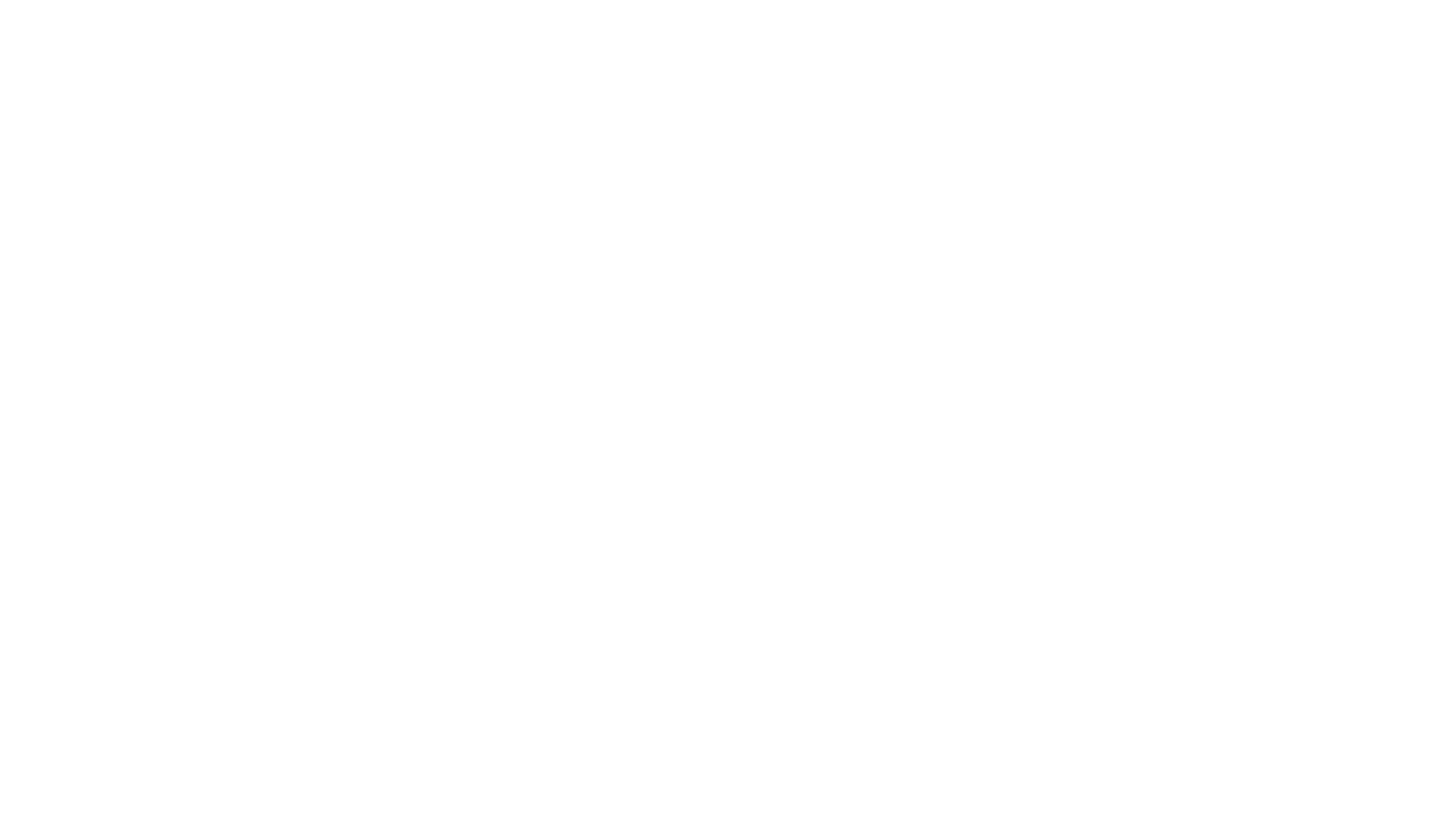
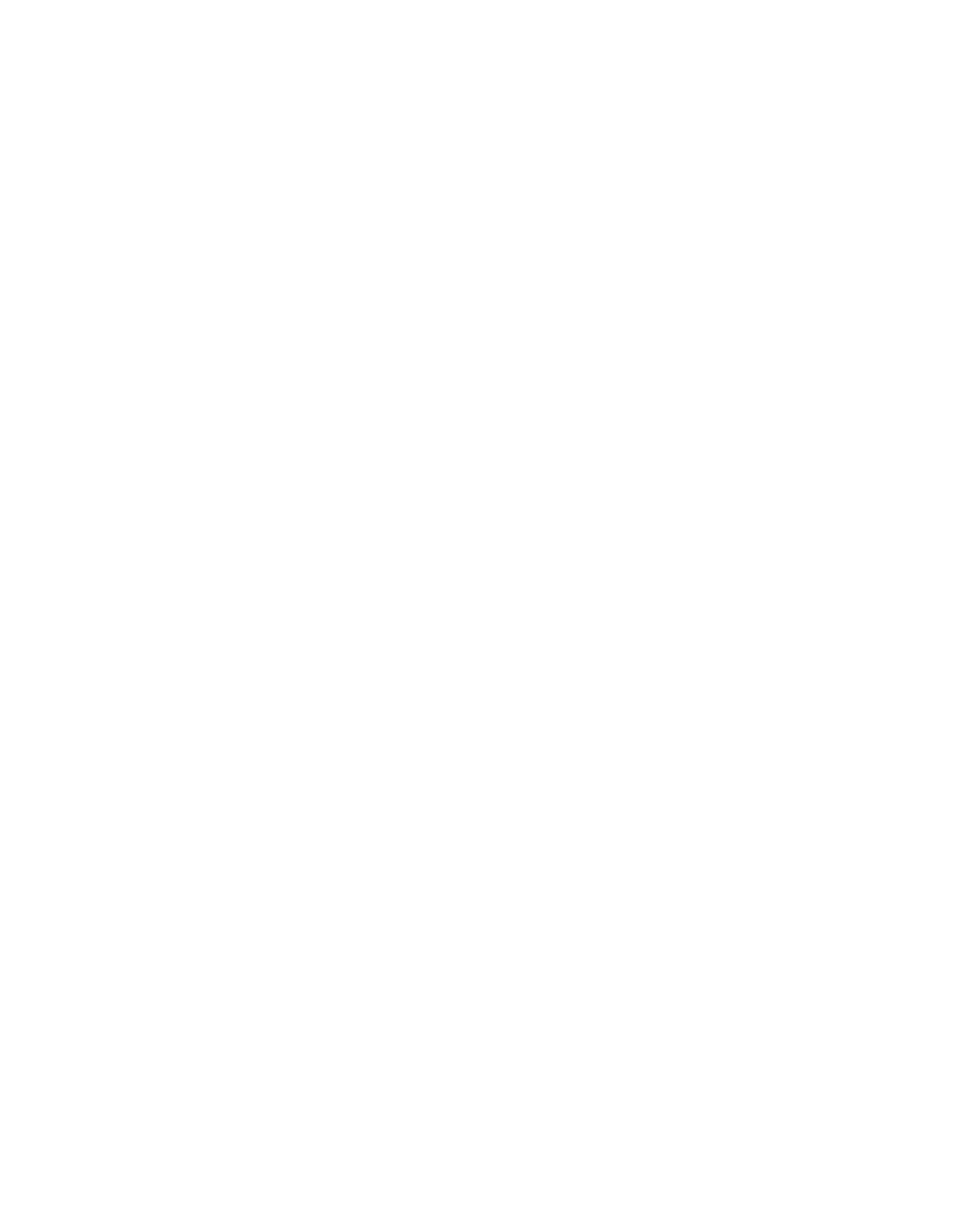
■ Группа А3 «Автоматическая коробка передач – компоненты и системы» (цитата): «Автоматическая коробка передач для автобусов; автоматическая коробка передач для легковых и легких коммерческих автомобилей; валы автоматических коробок передач, шестерни с внутренним зацеплением; планетарный редуктор; гидродинамический трансформатор; электрогидравлический блок управления; управляющие клапана с электроприводом».
А что, для крупнотоннажных грузовых автомобилей у нас уже есть отечественные/локализованные АКП и АМКП?
■ Группа Б1 «Мосты и редукторы мостов (включая мосты для низкопольных автобусов и электробусов) – компоненты и системы» (цитата): «Картерные детали; валы и шестерни».
А ничего, что электробусы отечественного производства, а «на том берегу реки» даже NEVs-грузовики оснащаются мостами со ступичными мотор-генераторами? Тем более что заявлены планы «создания производств инновационного транспорта – электрических и гибридных автомобилей, включая автомобили на водородных топливных элементах».
■ Группа В2 касается пассивной безопасности (подушки, ремни, пиропатроны).
Но мне не удалось найти даже упоминаний систем и элементов активной безопасности. Равно как и самого термина во всем тексте документа... До 2035 года этим заниматься не планируется? Хотя автономные автомобили упомянуты, и более того, планируется экспорт (!) соответствующих технологий. Простите, но ведь без ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) – систем помощи водителю, составным элементом которых является упомянутая выше AEBS, – вообще-то нельзя достичь даже полноценного третьего уровня автономности. Хотя на этом уровне (и не автономности, а скорей автоматизации) система управления способна исправлять неумышленные ошибки человека за рулем, да и во время движения, но в строго определенных условиях (!), даже позволяет ему снять руки с рулевого колеса.
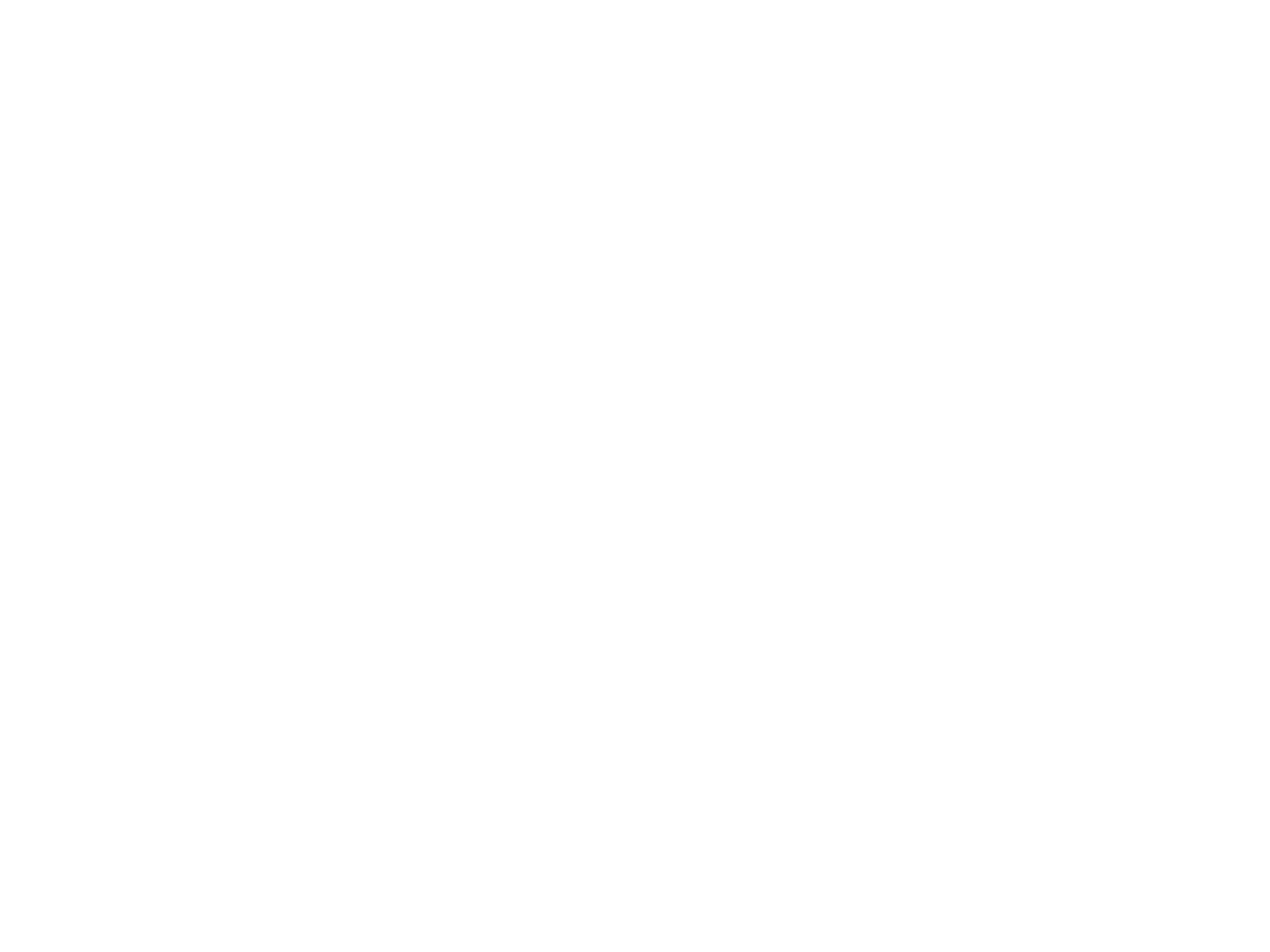
С вашего позволения (и исчерпав разрешенный объем журнальной публикации) на этом обсуждение проекта «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 года» завершим. Еще раз: все вышесказанное является всего лишь оценочным суждением автора. И простите за эмоции.
P.S. Полный текст проекта «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 года» ищите на сайте regulation.gov.ru (дата публикации 18.08.2022), или по ссылке на сайте ktt-magazine.ru, или в электронной версии журнала «Коммерческий транспорт и технологии».
Два графика – типаж техники указан. В каждом случае верхний заимствован из доклада «Итоги по производству и рынку автомобильных транспортных средств за первое полугодие 2022 года». Автор – А.С. Ковригин, «АСМ Холдинг», 27.07.2022, Москва. Нижние графики подготовлены автором на основе данных из публикуемой таблицы – Приложение № 2 к Стратегии <...>.
Судя по всему, на период до 2035 года (включительно) отечественный автопром ждет эпоха устойчивого роста, стабильности и процветания, в отличие от периода 1990-2022 годов!